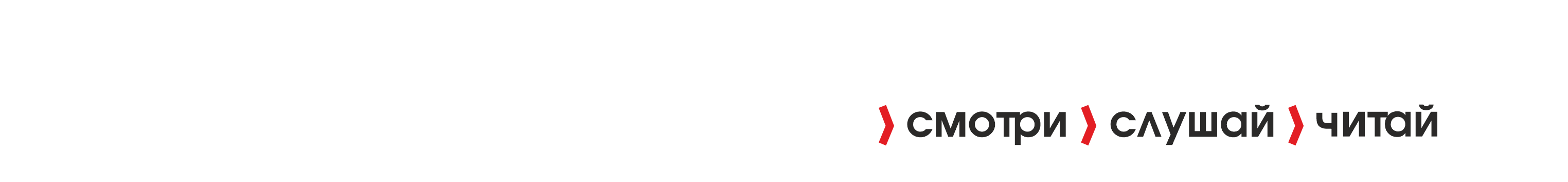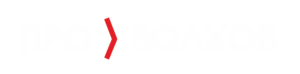Живу, пока помню: размышления над семейной хроникой, в которой «отразился век»

Многие, увидев этот портрет, говорили, что на нем — знаменитая актриса Вера Холодная. На самом деле это моя бабушка. Портрет сделан в начале 1920-х в ателье на Невском проспекте. Она говорила — «был просто очень хороший фотограф, он сделал меня красавицей». Судя по обстоятельствам времени и места, фотограф был не просто хороший, а выдающийся — Моисей Наппельбаум. Его внучка Екатерина Михайловна Царенкова подтвердила: да, это почерк деда…
Рылся в старых бумагах и неожиданно нашел папочку с пожелтевшими от времени листами. Оказалось – воспоминания моей бабушки и ее сына, моего отца. Обоих, увы, уже давно нет на свете. Но, еще пребывая в добром здравии, по моей настоятельной просьбе они взяли в руки перо и отчитались перед потомками. То же самое заставил я сделать и маму – к счастью, она еще жива, только недавно справила 90-летие. Перечитал все это и ахнул: за этими бесхитростными, со множеством «ненужных» бытовых подробностей строчками – портрет великой и страшной эпохи. Только написанный с разных ракурсов.
А Луначарский прав!
Бабушка моя, Елена Соломоновна Певзнер, родом из Могилева. Там, как известно, в Первую мировую была Ставка Верховного главнокомандующего, то есть императора всея Руси. Николай II приезжал туда вместе с семьей, и бабушка, тогда еще девочка-подросток, неоднократно видела их гуляющими. Заметила еще, что мальчик-наследник был явно болен, волочил ножку.
Сама она с самого детства мечтала стать врачом. Чтобы помочь многодетной своей семье (семеро детей!), в последнем классе школы перешла на вечернее обучение, а сама устроилась в больницу делопроизводителем. Там и познакомилась с молодым фельдшером.
«В этот день, видимо, решилась моя судьба, – пишет она. – Фельдшер этот, Рутман Яков Абрамович, в будущем стал моим другом, товарищем и мужем… Что привлекло меня к нему? Блестящей внешностью он не отличался, но я чувствовала в нем благородство души, скромность, а главное – любовь к медицине».
В августе 1921-го они поехали в Петроград поступать в медицинский институт. Голод, холод, чужие углы… «Денег на трамвай не было. Иногда ездили «зайцами». Часто мы трамвайные билеты, надорванные контролером, подклеивали аккуратно папиросной бумагой. Мы не курили, но у студентов выпрашивали окурки и брали с них нужную бумажку».
Отношения – братские. Мужем и женой они стали только в 1923-м (по иронии судьбы, поселившись рядом с тем вузом, где без малого через 30 лет познакомятся друг с другом мои отец и мать). Чтобы выжить, бесконечно подрабатывали, в редкие свободные вечера умудрялись «разными способами» проникать в театры. Из Царской ложи Мариинки слушали Шаляпина в «Борисе Годунове», в Филармонии – диспут Луначарского и митрополита Введенского на тему «Есть ли бог?». «Меня, как атеистку, еще больше убедил Луначарский, что бога, о котором так настойчиво говорил Введенский, нет. Не существует!»
26 июня 1926 года им вручили дипломы «на больших толстых листах с золотым шрифтом». Она – гинеколог, он – терапевт.
«Мы купили на Невском проспекте футляр черный, положили туда два диплома. Нашей радости не было границ, было такое ощущение, что весь народ радовался вместе с нами. Мне в это время было 23 года. Во мне уже зрела жизнь моего будущего сына».
Рожать она поедет на родину, в Могилев. Мужа заберут в армию на два года, и она будет ждать его, работая в маленьком городке Шклове. А потом они соединятся в деревне Колчаново Волховского района Ленинградской области, где она станет главным врачом больницы, а он там же – терапевтом.
Как раз тогда там разворачивалась коллективизация.
«Многие зажиточные крестьяне, имевшие одну лошадь, одну корову и свой дом с приусадебным хозяйством, не стремились в колхоз… В конце концов они были лишены своего хозяйства (лошади и коровы)… На наших глазах шла большая, тяжелая ломка людей. Власти на местах с представителями районного центра решали вопросы, кого раскулачить, у кого конфисковать хозяйство, кого выселить из деревни в отдаленные места… Часто мы слышали стоны, плач и выражение недовольства, в особенности тех крестьян (кулаков?), которых увозили из нашей деревни».
Спасибо Сталину
Деревня Дагоны тогда тоже относилась к Ленинградской области. Хотя искони (да и сейчас!) это Псковщина, недалеко от границы с Латвией. 19 января 1931 года там родилась девочка Зина – моя будущая мать. Отец ее, мой дед Владимир Максимович Максимов – представитель крепкой крестьянской семьи. Мать, Полина Никифоровна, урожденная Жукова, – тоже из крестьян, но победнее. Поженились в 1930-м, вскоре его взяли на военные сборы. К тому времени раскулачивание уже шло вовсю. Огромный клан Максимовых вывели под корень…
Моему деду было тогда 23 года, он только что вернулся со сборов, жена – с грудным ребенком на руках. Вот что записала моя мама со слов своей матери:
«Нам дали три дня на сборы, разрешили взять еды на три дня и немного одежды, чтобы не перегружать лошадь. Нас, всю семью: мать мужа, его брата и двух сестер, мужа и меня с полугодовалой дочкой погрузили на телегу и повезли по дороге на Опочку.
Один из организаторов раскулачивания был знакомый парень, с которым по молодости встречались на танцах, он даже пытался тогда «ухлестывать» за мной. А теперь он мне стал нашептывать: «Ты можешь остаться дома, ты же ведь из бедной семьи». «Нет уж! – отвечаю ему. – Куды муж, туды и я!»
По счастью, дорога на Опочку проходила мимо моей родной деревни Глушково, где теперь жила мама с моей младшей сестрой. Ей кто-то сказал, что везут раскулаченных в ссылку, и в том числе семью Максимовых. Мама выскочила на дорогу, увидела телегу с нашей семьей, заплакала, запричитала: «Ах, тошно-лихо, куды ж вас увозють, што с вами будеть, оставьте хошь робенка нам. Може там с голоду помре! А тута хошь бы молока вволю есть!»… И я свою единственную дочь оставила здесь».
Как потом выяснилось, это и решило судьбу ребенка (а значит, в будущем – и мою). Раскулаченных отвезли в Синявинские болота – на торфоразработки.
«Первый год, – вспоминала моя бабушка, – в Синявино было так голодно, что почти все маленькие дети поумирали, а взрослые ходили вокруг столовой и складов и собирали всякие отбросы».
Барак, 12-метровая комната, в которой каким-то чудом размещались семь человек. Работа по 10 – 12 часов в день. Торф требовался для знаменитой стройки социализма – 8-й ГРЭС…
Девочку привезли к родителям только в начале 1933-го – бабушка заболела и уже не могла с ней справляться.
«Кажется, в 1934-м, – вспоминает моя мама, – некоторым ссыльным стали выдавать паспорта. Это было большое событие в наших поселках, так как человек с паспортом считался свободным и мог уехать из Синявино… Вот-вот должны были получить паспорта и мои родители. У меня сохранилась фотография тех времен: папа с мамой сидят радостные за столом, а на столе – бутылочка водки… Но судьба горько подшутила. 1 декабря 1934 года убили Кирова. Выдачу паспортов сразу прекратили…»
Жизнь, однако, как-то налаживалась. Дед мой стал работать бухгалтером, бабушка – в швейной мастерской. Мама пошла в школу.
«В праздничные дни, 1 мая и 7 ноября, – вспоминает она, – на центральной площади устанавливали трибуну, на которую поднимались представители поселковых властей и различных предприятий, а вокруг собирались жители поселка. Проходил торжественный митинг с речами, в которых благодарили партию и правительство за нашу счастливую жизнь. На одном из таких праздников на трибуне стояла и я как лучшая ученица школы и как ее представитель. Мне на листке написали «речь», я ее добросовестно выучила наизусть. Так как я была очень маленькая, моя голова была не видна из трибуны, поэтому мне под ноги подложили несколько кирпичей. Почему-то на этой трибуне я не испытывала страха и стеснения, очень четко и громко произнесла эту речь и закончила ее словами: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!».
«Мы были молоды…»
Деревня Колчаново от Синявина недалеко – по прямой километров 50. Там, в семье деревенских врачей, рос мой будущий отец. И у него были все основания благодарить товарища Сталина за свое счастливое детство. Родители – уважаемые люди, носители грамоты и культуры. Уже в 1931-м его мама – член сельсовета и на большом сходе крестьян торжественно вручает им Акт вечного пользования землей. И в его воспоминаниях тоже есть праздничная трибуна:
«Я всегда ждал с нетерпением, когда будут говорить мои мама или папа – им всегда давали слово».
«Деревня только начинала приобщаться к грамоте. Молодые и старые читали по складам, шевеля в полушепоте губами, водили пальцами по строчкам. А у нас дома уже был радиоприемник Шапошникова – черный ящик с ручечкой, я слышал непонятное слово «детектор». Надо было ручкой соединить что-то в коробке, и тогда появлялся звук. Дядя Ваня, наш хозяин, никак не мог взять в толк, откуда этот звук вылетает. А когда где-то далеко, в концертном зале, раздавались аплодисменты, он снова не верил и говорил: «Колотушки!».
Мальчик любознателен и приметлив, он буквально впитывает в себя окружающую жизнь: частушки, острые словечки, обычаи, яркие лица. Только вот неожиданно хорошие, добрые люди, которых он любил, вдруг начали пропадать.
«Дядю Ваню кто-то куда-то увел… А потом во дворе было много народу, кто-то стоял на крыльце и выкрикивал: «Кто больше?!».
В 1934-м он пошел в школу – сразу во второй класс. И, сидя за партой, услышал грохот и звон – скидывали колокола с деревенской церкви.
«В церкви потом сделали МТС, иконы растащили, разломали, и мы долго играли красивыми желтыми обломками окладов. А батюшка, отец Михаил, еще долго, до своего ареста, отпевал, крестил, соборовал…»
И все-таки мать и сын, независимо друг от друга, признают это: Колчаново было для них самой счастливой порой жизни.
Она: «Мы были молоды, работоспособны, энергичны, любили свое дело… Были трудные годы, но то были годы плодотворной полезной работы. Большая радость была еще в том, что мы были нужны людям. Мы принесли им нечто новое, необходимое в их сложной и трудной тогда жизни. Любовь к деревне, к простым русским людям осталась у меня навсегда. Вместе с людьми я сильно полюбила просторы полей, лугов и лесов. Часто в мыслях, мечтах и снах виделись мне эти места».
Он: «Я часто задумываюсь, да и спрашивают меня: откуда мне, городскому жителю, так близка природа, лес? Почему меня всю жизнь волнуют русские байки и прибаутки и вообще русская речь? Это все из далекого моего детства, из памяти о времени беззаботном. Эту беззаботность создавали мне родители, а я ведь тогда своим умишком не понимал, что шла бурная ломка человеческих отношений, сознания…»
В 1935-м его родители пошли на повышение. Мама стала главным врачом Волховской городской больницы (а впоследствии – депутатом горсовета), отец – в той же больнице заведующим терапевтическим отделением. Там их и застала война.
«Когда немцы стали бомбить Волхов, – вспоминает она, – я отправила своих детей (к тому времени у моего отца была семилетняя сестра. – М. Р.) с санитаркой Носовой в город Тихвин к знакомому главному врачу тихвинской больницы. В конце июня меня и мужа мобилизовали в армию. Формировались с санитарным поездом из Волхова… На станции Тихвин поезд остановился. Я вышла на платформу, надеясь что-либо узнать. Оглядывалась вокруг, и к моей большой радости услышала крик сына: «Мама!». Оказывается, главный врач тихвинской больницы со своей семьей эвакуировался, а моих детей с няней отправил на эвакопункт. Сын мой бежал с котелком за кашей. Мою радость – нашла детей! – описать трудно. С большим трудом начальник поезда разрешил взять их вместе с санитаркой Носовой, которая находилась на платформе вместе с моей девочкой».
Память ее сына выхватила другое:
«В череповецком госпитале мама привела меня в палату, где стоял тяжелый дух гноя, пота и еще бог знает чего. С высоты третьего яруса на меня глядело бледное лицо моего деревенского друга Мишки Агеева. Он обморозил ноги в Синявинских болотах…».
Биографию скрыла
А на Синявинские болота война пришла уже в начале июля, когда в небе появились первые немецкие самолеты.
«В середине августа, – вспоминает мама, – утром прошел слух, что ночью все наше начальство, милиция, которая охраняла нас, ссыльных, уехали. И… начался грабеж магазинов. Люди тащили все: продукты, соль, мыло, посуду, инвентарь и т. п. К полдню все было разграблено, и наступила жуткая тишина. Бегство начальства и охраны означало, что немцы подходят к станции Мга».
Уже потом, через много лет, изучая документы тех времен, она поймет, что фронт тогда разрезал зону торфоразработок пополам. Одна семья из их максимовского клана, жившая в соседнем поселке, оказалась на нашей стороне и была благополучно эвакуирована в тыл. А они оказались «под немцами». Начались непрерывные артобстрелы, снаряды летели «через голову», но многие залетали и в поселок. Люди ушли в болото, спрятались в штабелях торфа. А потом, когда кончились запасы продуктов и наступили холода, по единственной узкой тропинке, соединявшей их с большой землей, пошли сдаваться к немцам…
Те – повезло – отпустили на все четыре стороны. И семья моего деда – он с женой, двое малолетних дочерей (маминой сестре был тогда всего год) и его пожилая мать двинулись к себе на Псковщину. Вещи он вез на велосипеде, к которому была привязана коза. Как прошли эти 700 километров, как обустраивались потом «на ровном месте», как жили «под немцами» – отдельная страшная эпопея. Но еще более страшная – история немецкого рабства, в которое потом попали моя бабушка Полина Никифоровна и две ее дочери.
Отца немцы не взяли – когда всех вывозили, он болел тифом. Его подобрала наступившая Красная армия, ему дали в руки винтовку, и с ней он прошел до Берлина. А когда уже после войны семья вновь воссоединилась, кто-то из деревенских соседей «стукнул» на него – мол, прислуживал немцам. И получил он 25 лет лагерей.
К тому времени его старшая дочь, моя будущая мама, с отличием окончила Ленинградский кинотехникум и поступила в Институт киноинженеров (ЛИКИ). При этом «темные» места своей биографии в анкете скрыла. Туда же, шесть лет отслужив в армии (повоевать, правда, не успев), поступил мой будущий отец. Был он до мозга костей гуманитарий – писал стихи, собирал марки, любил историю. Но… в стране шла тогда борьба с «космополитами», и его, «инвалида пятой группы», приняли только в ЛИКИ. Спустя много лет они встретятся с бывшими однокашниками, и все они признаются друг другу, что у каждого был «за душой» какой-то изъян – оказалось, что это был единственный вуз в Ленинграде, куда принимали изгоев…
А тогда, узнав из откровенной беседы со сталинской стипендиаткой старостой потока Зиной Максимовой, что она – дочь «врага народа», убежденный комсомолец Исаак Рутман возмутился: «Какое право ты имеешь это скрывать?! Ты должна пойти в комитет комсомола и все рассказать!». Испугавшись, она так и сделала. Но там ее пожалели и хода признаниям не дали.
А вскоре под жернова попала и его мать. Войну она закончила главным врачом госпиталя на Карельском фронте. Демобилизовалась с орденом Красной Звезды и в звании майора. Возглавляла родильный дом в Кировском районе Ленинграда, где обеспечила самую низкую детскую смертность в городе. Получила орден «Знак Почета». А затем грянуло «дело врачей». Ее вызвали в райком партии и заявили, что она… заражала детей сифилисом. Расчет был, конечно, на ее истерику, крики, слезы. Но она, закаленная войной, умела держать удар. Сказала спокойно: «Документы – на стол». Никаких документов, конечно, не было, но ее уволили с работы, исключили из партии. Здоровье, однако, не выдержало – случился гипертонический криз. И сын-праведник, стоя у постели, казалось, уже умирающей матери, сказал: «Мама, вспомни, может, все-таки что-то было?».
Через несколько месяцев на траурном митинге он читал свои стихи: «Мы стоим сегодня в этом зале, /Знаем мы – наш светоч не угас. /Дорогой, любимый, добрый Сталин, /Мы еще сильнее любим вас». Прозрение пришло к нему много позже, и тому уже я был свидетель.
А бабушка тогда выжила и прожила еще тридцать лет. Покоится она на кладбище Жертв 9-го Января под одной плитой со своим любимым Яшенькой, с которым в мире и согласии прожила 54 года. Ее сын, мой отец Исаак Яковлевич Рутман, упокоился на кладбище маленького города Советска, бывшего Тильзита. Там, окончив институт, они с моей мамой прожили всю жизнь, вырастили детей – меня и мою сестру.
Отец стал первым Почетным гражданином города, его имя носит городская библиотека. Ему было уготовано место на Аллее славы, но он завещал похоронить себя рядом с тещей, Полиной Никифоровной Максимовой. Когда ее мужа, моего деда, отправили в Джезказган на медные рудники, она поехала с ним, пробыла там все годы до его смерти и доживать свой век приехала к нам.
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 99 (6937) от 03.06.2021 под заголовком «Живу, пока помню».