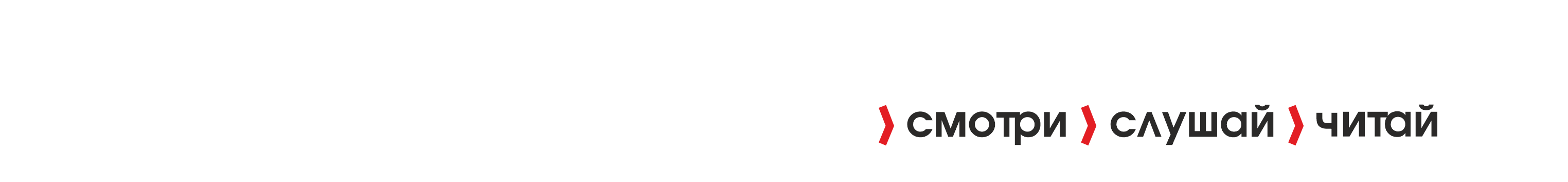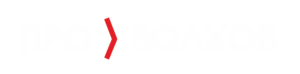Синее платье в белый горошек

Эмма Михайловна Воробьёва — учитель английского языка. Много лет работала в Пашской средней школе.
Родилась она в 1936 году в Карелии. Эмма Михайловна — талантливый человек, пишет стихи. Прекрасно читает как свои стихотворения, так и стихотворения известных поэтов. Она — замечательный исполнитель русских романсов, поёт в хоре Пашского КСК. Является постоянным членом литературного клуба «Прометей», активно участвует в его работе. Любит художественную литературу и много читает как современных авторов, так и классиков. В этом очерке — воспоминания Эммы Михайловны о военном детстве. Скоро ей исполнится 85 лет.
День 22 июня 1941 года Эмма Михайловна Воробьёва хорошо помнит. В этот день её рождения ей исполнилось пять лет. С утра мама нарядила дочку в синенькое шёлковое платье в белый горошек, привязала белый бантик и отправила к соседке, а сама пошла на работу. Всегда в таком случае она оставляла соседке и кастрюльку с супом, которым та кормила девочку в течение дня. Оставалась Эмма у соседки иногда на целый день.
Вдруг раздался страшный гул, от которого всех охватил ужас. По радио объявили, что бомбят станцию Салми. Здесь жила тогда семья Воробьёвых. Вечером мать забрала дочку и пошла углублять “канаву” — ров, в котором должны были прятаться во время бомбёжки мирные жители. Самолёты фашистов продолжали летать и бомбить, ведь граница была почти рядом, в пятидесяти километрах, поэтому ночевали несколько дней в канаве и даже днём из неё не выходили. Было тепло, мать чем -то укрывала детей, и Эмме даже понравилось сначала там спать, пока она не понимала ещё, что происходит.
Рассказывает Эмма Михайловна: «Когда мы проснулись, мама не разрешила нам высовываться из канавы. Снова послышался гул самолётов, все взрослые бросились в укрытие. Я из канавы всё-таки выглянула и увидела, как лётчик — немец или финн — гоняется за старушкой, которая не успела спрятаться. Она, в длинной юбке, бегала, петляя как заяц, но лётчик прошил её длинной очередью, и старая женщина упала, юбка у неё задралась кверху. Всё это мы, бедные дети, видели.
А потом к нам пришёл отец. Работал он в райкоме партии каким-то инструктором, призвали его в первый же день войны. Отец сказал: «Вечером поедете на машине. Вас всех заберут, но с собой из вещей брать ничего нельзя. Машина будет переполнена». Уезжали мы без отца. Когда машина тронулась, за нею побежали женщины с детьми, они кричали и плакали, им места в машине не нашлось. До сегодняшнего дня всё помню: темнота, голоса, взрослые переговариваются. На всю жизнь остался этот страх, боязнь темноты, голосов в сумерках. Мама везла с собой маленький узелок детских пелёнок или штанишек и чайник с молоком, так как брат Лёвка был ещё маленький.
Приехали мы в Петрозаводск, а отсюда нас в Пудож отправили. Плыли на барже по Онеге, буксирчик маленький, за ним наша баржа, потом ещё одна. Фашистские самолёты налетели, начали нас бомбить. Разбомбили вторую баржу. До сих пор мерещатся мне эти головы над водой. Кричат — и тонут, кричат — и тонут. Взрослые и дети. Наша баржа благополучно добралась до Пудожа. Поселили нас в школе. Лёвка здесь все печки расковырял, ел глину, извёстку, видимо, тогда уже ему чего-то не хватало.
Потом посадили на поезд и повезли в Медгору. Как только мы сели в поезд, мама наша начала рожать. Была она в это время на девятом месяце беременности. У неё — ни на себя, ни под себя ничего нет. Я в лёгком платьице, и мама в лёгком платьице. Маме просто повезло. В Медгоре как раз стоял санитарный поезд. Из нашего вагона стали кричать: «Помогите! Здесь женщина рожает!». Маму перевели в санитарный поезд, приняли у неё роды. Дали несколько мужских рубашек на пелёнки младенцу. А мы с Лёвкой, оставшись одни, тряслись от страха, не зная, вернётся наша мама или нет: «Где мама? Когда она придёт? Придёт ли вообще?».
Но вот пришла мама «с лялькой», и мы поехали. Ехали в товарном поезде со щелями. Мы с Лёвкой — на нижней полке, а мама с Геной (так назвала она малыша) наверху. С нами ехала в тыл семья ещё одного райкомовского работника — первого секретаря райкома. Фашисты за поездом на самолётах гонялись, поэтому двигался он неравномерно: то ползёт еле-еле, то как рванёт вперёд, чтобы лётчиков дезориентировать. Обстреливали нас постоянно, несколько раз даже бомбили. Когда начиналась бомбёжка, поезд останавливался. Нас всех высаживали, раздавалась команда: «По канавам — ложись!». Прекращалась бомбёжка, все бежали в поезд, и мы ехали дальше. Однажды мама пеленала Гену на второй полке, и поезд так рвануло, что она оказалась на плечах у соседки тёти Кати, сама не понимая, как это могло случиться. А Гена каким-то чудом продолжал лежать наверху.
Когда поезд на станциях останавливался, все бежали за кипятком, но, что мы в это время с кипятком ели, я совершенно не помню.
Ехали мы на этом поезде почти три месяца. Наш поезд пропускал все составы, которые шли на фронт: и с бойцами, и товарные. Выехали из Карелии в июне, а приехали в Пермский край, в деревню Одина, поздней осенью, в октябре.
Деревушка была маленькая, «десять домов с половиной». Избёнка, куда нас поселили, была ветхая-ветхая и стояла на краю деревни.
Жили мы у старушки, к которой ещё не поселили жильцов. Запомнилась эта избушка мне тем, что мимо неё шло деревенское стадо. Идёт это стадо обратно с пастбища, а впереди быки, которым всегда хотелось почему-то почесаться об нашу избушку. Мы прятались от быков дома и забирались на полати, ещё только заслышав, что вдалеке начинают мычать коровы. А быки с утробным рёвом «О-оо- ооо!» начинали чесаться об угол избушки с такой силой, что наша избушка сотрясалась и, казалось, готова была развалиться. Дети все разбегались по домам от страха и не зря. Огромный бык Моряк затоптал-таки в ярости своего скотника. Один он и был из мужчин в колхозе, почти не мог ходить, нога у него больная была.
Здесь, в Одине, и началась наша «сладкая» жизнь. В летнем платьице пошла мама в колхоз устраиваться на работу и ходила, пока это платье на ней не истлело. Уже и выйти на улицу в нём нельзя, а председатель требует, чтоб на работе была. Пришла мама к нему в кабинет, подняла руки, а у неё платья-то почти нет. «Я не пойду на работу, пока Вы не дадите мне хоть что-нибудь надеть!», — заявила мама. И председатель выделил ей сколько-то материи, чтобы она могла что-либо себе сшить. Сшила она себе платье. Была мама ловка шить! Когда у нас не было соли, мама за стакан соли перелицевала на руках для одной крестьянки пальто. Руками перешила пальто! А соль в войну была очень дорогая. Только одна женщина торговала солью на базаре.
Баб в колхозе зимой отправляли на волах на заготовку дров. Лошадей не было — все на фронте. Волков в войну было много. Охотились они за волами и за людьми. Бабы орут на повозках, волов понукают. Но ведь они не могут быстро идти. Однажды мама приехала очень взволнованная: «Волки за нами гнались! Еле-еле убежали!». Крыши в деревне соломенные, волки их разгребали и уносили домашних животных. Лисы охотились за курами, поэтому кур зимой держали в избах.
Мимо деревни протекала речушка, больше похожая на ручей, воды в ней было по пояс. Колхозницы ставили сети и ловили карасей. Лягушек водилось там великое множество, но никто в то время даже не подумал, что их можно есть.
Мы голодали! У мамы от голода ноги опухли, стали, как у слона. Она через порог перейти не могла, ползком переползала. Я тихо умирала от голода, лежала на полатях молча, уже с боку на бок перевернуться не могла. Брат мой Лёвка был на три года меня младше, мне пять лет, ему — два. Орал он от голода день и ночь. После войны уже я спрашивала маму:
— Мама, ну как ты могла пережить это: ребёнок орёт и орёт?
— Я потеряла всякое чувство, — отвечала она. — Мне было всё равно: орёт и орёт. Мне его даже жалко не было.
Спасло нас то, что откуда-то эвакуировали детский дом. По всей деревне стали искать грамотного человека — воспитательницу. Кроме мамы, грамотных не нашлось. Она успела до войны окончить рыбопромышленный техникум. Когда пришли приглашать на работу, мама стала отказываться: «У меня дети от голода умирают!». Взяли на работу вместе с детьми: со мной и Лёвкой. А младшего, Гену, не взяли. Так он и ходил по рукам у деревенских женщин. Родился он очень красивеньким, глаза карие, большие, волосы кучерявые. Все его любили. Крестьянки по очереди носили его на руках, нажуют ему хлеба в тряпочку, сунут в рот, он и молчит. Он даже не страдал от голода, как мы.
Десять домов в деревне, бабы и дети. Вернулся с фронта только один солдат. И тот инвалид, без ноги. Ходил по домам, ни одна баба не ревновала: где ночует — там и ночует. И в каждой избушке появлялись дети.
Детский дом нас всех спас: и маму, и меня, и Лёвку. В детском доме давали хлеба кусочек и десять граммов маргарина каждому.
Об отце мы ничего не знали. Я писала ему письма на фронт большими печатными буквами, но, конечно, они не доходили. Первый секретарь райкома быстро отыскал свою семью, прислал ей свой продовольственный аттестат, деньги, поэтому тётя Катя с детьми не так голодали, как мы. Мы же до 1945 года не знали, где отец, жив ли он. Помню, как старушки гадали у нас в доме. Затопили печь и стали слушать, что там в трубе. Мне уже восемь лет было, я с ними слушала. Маме показалось, что конь цокает копытами. (Лишь позже мы узнали, что служил отец в артиллерии и кони у них были, они пушки таскали.) Хором гадалки сказали: « Придёт! Придёт живой!». И пришёл он, но только в 1946 году.
В Одине пошла я в 1944 году в первый класс. Было мне восемь лет. Помню страничку букваря с надписью: «Нам восемь лет — мы идём в школу!». Школа была малокомплектная. Две учительницы: 1 и 3 классы учила одна, 2 и 4 — другая. Когда начиналась перемена, обе учительницы вставали у доски и пели нам песни, чтобы мы не падали с парт и не плакали от голода. Детей из детдома в школе не кормили. Наша учительница, по фамилии Живухина, была очень толстой, за это мы её не любили. Ушла она от нас уже в первой четверти — умерла от голода. Не знали мы тогда, что люди от голода опухают.
Отец мой — Михаил Матвеевич Хазан — родился в 1911 году, в Гомельской области. Был комсомольским активистом. Во время Великой Отечественной войны его несколько раз повышали в звании, дослужился до капитана, после войны оставляли работать за границей, но он не остался. Был за ним «грех». Когда-то в юности, будучи секретарём комсомольской ячейки, он помог своему другу избежать ареста. Потом и самому пришлось менять место жительства, чтобы не арестовали. Бежал он в Питер (тогда, наверное, уже Ленинград). Устроился на работу, скоро выбился в комсомольские лидеры. Здесь он познакомился с моей мамой — Александрой Ивановной Афониной, уроженкой деревни Новинка Киришского района. Училась она на каких-то курсах. Воспитывалась мама с двух лет в детдоме, родных не было. Жила в общежитии. Парни приходили к девчонкам в гости. Когда папа уходил, старался в карман маме положить трёшку или пятёрку, а то и вкусненького чего-нибудь. Пальто висело на вешалке в прихожей, так что это нетрудно было сделать. Он тоже был детдомовский, но в детстве довольно долго жил у родных, в семье. Когда мама закончила учёбу, её направили в Карелию работать, папа перевёлся туда на партийную работу. Там он снова с Шурочкой встретился. Поженились они в Петрозаводске. В Соломенном был такой дом на скале (он так и назывался «дом на скале»), в этом доме они и жили.
До войны отец наш не пил. Был он симпатичный. Воевал отец на Синявинских высотах, на Волховском и Ленинградском фронте. Нам рассказывал: «На Ленинградском фронте голод был страшный! Когда убивало лошадь, конину все ели с удовольствием». Ранен он был два раза. Один раз разрывной пулей в предплечье. На руке у него осталась глубокая ямка до кости. Второе ранение навылет он получил в грудь, пуля оставила след на груди и под лопаткой. После тяжёлого ранения лежал в госпитале в Челябинске. Служил в артиллерии, всю войну прошёл политруком. Это была его прерогатива — быть политическим работником. Имел он образование четыре класса, но был очень умным и много знал. Помогал нам с Лёвкой сдавать экзамены в пединституте по истории партии, по истмату. Политически подкованный был человек. Но прожил всю жизнь в страхе. Это мы поняли, когда умер Сталин. Пришёл он домой пьяненький, а я возмутилась: «У нас такое горе! Умер Сталин! Вся школа плачет!». Отец промолчал, но я поняла, что только теперь он освободился от страха. Отец всё время боялся, что при какой-нибудь проверке станут известны НКВД его юношеские «грехи», поэтому избегал всяческих назначений и не разрешал матери искать каких-либо родственников.
Голодали мы очень долго, до 1946 года, до приезда отца. Как-то он нашёл нас и выбрался к нам.
В Салми вернулись мы зимой 1945 года. Читать и писать я умела, и в школе мне нечего было делать. Но там давали на большой перемене кусочек хлеба и сладкий (так нам говорили) чай. Очень хотелось есть, и я постоянно шарила в парте руками. Мне казалось, что со вчерашнего дня там оставались какие-то крошечки хлеба, и их надо было найти.
После школы меня почти всегда находили милиционеры. Падала я от голода, где угодно. Шла-шла и падала в сугроб. Подобрав, милиционеры заносили меня в ближайший дом. Однажды принесли в какую-то бухгалтерию, посадили около круглой печки. Женщина принесла мне стакан кипятку, а я думала: «Неужели у них ничего поесть нет?». А у них и на самом деле поесть было нечего. Кипяточек я выпила, отогрелась. Позвонили маме, и она забрала меня. Так повторялось много раз.
Когда вернулся отец, мама работала уже в Госбанке. Ввели талоны на хлеб. После войны появились в семье ещё двое детей: брат Славик и сестра Ольга. Стало нас пятеро. Мама очень любила отца, боялась потерять его. Была она в то время ещё молодой женщиной, а рядом — столько молодых, красивых, незамужних девушек, женщин, которых обделила семейным счастьем война.
Окончила я среднюю школу в Питкяранте. Это очень хороший город, мне он нравится до сих пор.»
Детство закончилось. Впереди была сложная, насыщенная событиями и встречами жизнь. Она продолжается.
Мы желаем Эмме Михайловне бодрости, оптимизма и поздравляем её с ЮБИЛЕЕМ!
Э.Е. БОЛЬШАКОВА